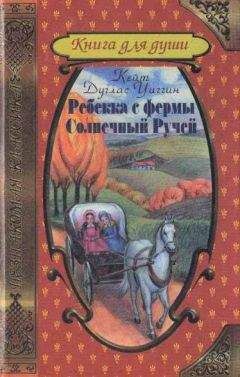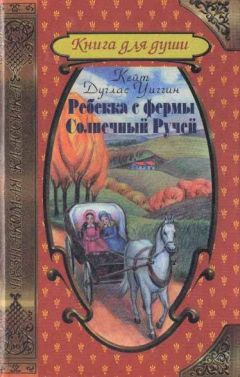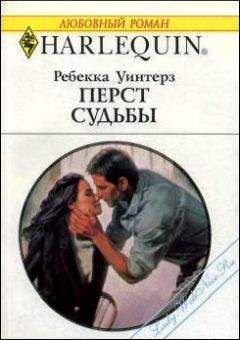Борис Минаев - Мягкая ткань. Книга 1. Батист
Что конкретно означают эти новые слова, доктор еще толком не знал, но, глядя на Татьяну, произносил их с удовольствием и даже повторял про себя: да, во главе комитета или комиссариата.
Впрочем, могло сложиться и по-другому: большая любовь, муж, множество детей, мать семейства – то есть и глава, и душа его, и озаряющее (организующее) жизненное начало.
Переходя к Наде, доктор немного задумывался. Если в будущей судьбе Тани он предполагал два хороших варианта, то в судьбе Нади – и хороший, и плохой.
Надя была натурой также очень страстной, но ее страстность не выплескивалась вовне, а оставалась внутри. Она все переживала. Переживала так бурно и так сложно, что высказать, выразить свое отношение, короче говоря, сказать что-то ей было очень трудно.
Окружающие ее любили и не принимали эту черту за глупость, хотя поначалу могло на посторонний взгляд показаться именно так: Надя училась хуже сестер, почти ничего не читала, но ее переживания были так огромны, что поглощали ее всю.
Она переживала снег за окном, гибель собаки, пролитый чай и болезнь матушки так сильно, что, казалось, вот-вот умрет сама.
Естественно, доктор предполагал в ее судьбе всякие сложности, связанные с умением переживать все происходящее именно таким образом, то есть череду неудачных романов с попытками застрелиться, вскрыть себе вены, уйти в монастырь, а потом… Потом два варианта: либо хороший, либо плохой.
Но и Таня, и Надя интересовали доктора (хотя были девушками весьма красивыми) лишь как грани, как возможности, как нераскрытые части основной загадки, основной части ребуса.
В них ему (как казалось тогда) все было слишком понятно. Вера Штейн, средняя сестра, поразила доктора сразу – прежде всего, своим отсутствием. Времени у него было очень мало. Вера же не хотела появляться в гостиной одновременно с ним, то уходя из дома, то забиваясь в какие-то одной ей известные уголки этой большой квартиры, куда доктор проникать все же не решался.
Кстати, о цели своей поездки Весленский не имел права распространяться, отвечал на вопросы уклончиво, и зачем его вызвали из Киева (у нас что, в Питере своих врачей не хватает? – простодушно спрашивал его глава семейства, старичок-портной Штейн), оставалось совершенно непонятным (доктор не любил врать), поэтому о том, кто же он, сестры могли судить только по косвенным признакам: его каждый вечер, а вернее, каждую ночь привозила служебная моторизованная коляска с армейцем (охрана!), однако же при всем том доктор был просто доктором, никаких политических разговоров не вел и от них старательно уклонялся.
В эти месяцы и дни, несмотря на большой расход, связанный с освещением, в их доме не любили рано гасить свет, рано ложиться спать, порой не засыпали даже до утра, подавляя голод и кутаясь кто во что горазд, потому что в Петроград тогда было очень сложно с дровами и углем, но все-таки не засыпали и не любили вообще ночной сон: засыпать было страшно.
Часто ездили на концерты, в театры, устраивали вечера, лишь бы не оставаться одним (да и гости, они же потенциальные женихи, частенько баловали сестер Штейн небольшими презентами, помогали устроить быт, развлекали, охраняли, заботились). Доктору лишь в самых общих чертах удалось разобраться в их сложно устроенном быте, приезжал он поздно, уезжал утром, и ему стелили здесь же на кушетке, в гостиной, нравы были самые гостеприимные, но только доктор никак не мог понять, как так получилось, что он оказался в этой семье почти на правах близкого родственника, в одном ли хлебосольстве дело, и лишь перед самым отъездом Надя рассказала ему, что особое внимание, которым он тут пользовался, объяснялось до смешного просто: доктор жил у Штейнов на правах человека, который не мог отвести от Веры глаз.
Почти всю дорогу до Киева доктор смеялся, про себя разумеется, над этим бесхитростным определением, но оно было абсолютно точным: он действительно не мог отвести от нее глаз.
Только когда появилась Вера, доктор вдруг резко и отчетливо понял, чего ему не хватает в этой полноте, в этой жизненной силе, огромной обаятельной силе, которая была и в задиристой Тане, и в застенчиво-слабой Наде – ему не хватает тишины.
Именно эта тишина – молчание, вечный и постоянный уход в неизвестность, в немоту – была той недостающей частью ребуса, который сразу складывал воедино все три женских характера.
Она давала объем, глубину, она освещала таинственным вечерним светом все генетически ясные грани двух оставшихся сестер, и именно этого света доктору в них и не хватало.
Но самое главное, доктор был почему-то глубоко уверен, что только сложенные вместе эти три части штейновского целого могут жить, и горько думал о том, что же будет, когда сестры расстанутся и перестанут видеть и слышать друг друга. Хотя бы видеть и слышать. Как резко почувствуют они образовавшуюся вдруг внутри них пустоту.
Впрочем, откровенно говоря, он не сильно беспокоился за Таню и Надю. А вот когда женился на Вере, вновь встретив ее через четыре года, эта мысль стала преследовать его неотступно.
Как же не хватало ей упругости, жадности, воли старшей сестры и умения прилаживаться, пристраиваться, приноравливаться ко всему, остро и глубоко переживая все, что ее окружало, – то есть качеств сестры младшей!
Доктор постоянно думал о том, как применить в медицине, во врачебной практике, а может быть и в теории эту идею насчет расщепленного психического целого, но ни новейшие труды по гештальтпсихологии, ни теория академика Павлова, ни психоанализ ему в этом никак не помогли, и он отложил свою теорию до лучших времен.
Каждое соприкосновение с Верой ошеломляло доктора именно потому, что это был человек с какими-то странными пустотами в душе, в характере, в способе жить. Пустоты эти, образованные, по мнению доктора, именно расщепленной натрое наследственностью, наследственным кодом, проявлялись буквально во всем – в том, как Вера ходила, лежала, отдавалась ему, в том, как она спала и ела, в том, как она с ним разговаривала и как шла по улице.
Ее отнюдь нельзя было назвать экзальтированной сомнамбулой, человеком не от мира сего. Напротив, она постоянно занималась домом, покупками, ходила к парикмахеру, тщательно следила за собой, шила новые платья или заказывала их у портного, тщательно планировала выезды за город, порой подолгу сидя над списком нехитрых продуктов для пикника: сколько яиц сварить, сколько купить помидоров или огурцов, – однако во всей этой ее деятельности доктор остро ощущал какой-то холодок, дистанцию со всем миром, и недаром: в самые нежные, полные моменты их счастливых прогулок за город или в моменты любви, когда доктор едва дышал, задыхаясь от полноты жизни, он ощущал ее боковой взгляд, этот таинственный свет в глазах, туманную морось в реакциях и движениях.
«Может быть, я сошел с ума?» – спрашивал себя доктор.
Теория голосов
Запоздалое предисловие
Дедушка начал появляться как-то постепенно.
Из-за бессонницы.
Лева перестал спать, почти совсем, в августе 2007 года. Было жарко, они никуда не уехали по стечению обстоятельств, ни на море, ни в деревню, и он перестал спать.
Первое время Лиза давала ему таблетки, но потом он от них отказался. Каждый раз после этих таблеток голова была свинцовой, и целый день Лева плохо соображал. Все путал, ничего не понимал, и настроение было ужасно тяжелым.
Теперь он свободно бродил по комнатам всю ночь, не зная, куда себя деть, ел, пил, слушал музыку, пробовал читать, но не шло, и вот тут постепенно начал появляться дедушка.
Лева не нашел ничего лучше, как сразу спросить его про Марию Мироновну. Причем ладно бы поставил вопрос как-то нормально, по-взрослому, так нет, просто ляпнул, что в голову пришло:
– Дедушка, расскажи мне про Марию Мироновну!
Выяснилось, кстати, в этот момент, что дедушка курит.
Какие-то старомодные папиросы, естественно. Как могут курить мертвые люди, Лева себе, конечно, не представлял. Запаха не было, один вид. Ну а как они могут разговаривать, ходить, отодвигать стул?
Дедушка нехотя переспросил:
– А что тебя интересует?
– Даже не знаю… – пробормотал Лева. – Ну, например, как вы познакомились?
– Обычно, – коротко ответил дедушка и отвернулся, с любопытством глядя в окно.
Семейную легенду о Марии Мироновне Лева узнал, естественно, от мамы. Папа никогда не упоминал о ней при Леве: не хотел иметь ничего общего с этим именем. Оно было для него чем-то вроде скверны для правоверного. Хотя папа не был правоверным.
А вот мама Левы узнала о Марии Мироновне поневоле. Когда она пришла в дом, дедушка еще жил с бабушкой. А потом как-то сразу ушел. И бабушка как-то сразу умерла.